| Поэты живут… Очередной умерший поэт забирает в могилу любовь. Мы сами слишком долго учились любить, чтобы наконец отличать матерей от женщин. Поэт - это совесть всех его окружающих, и если поэт замолкает, значит близко что-то ужасное. Закалённый русской действительностью: баней, зимой, бабами и водкой прокричал Башлачёв на прощание двадцатому веку: "поэты живут и должны оставаться живыми"... Прочувствовав сам всю обречённость, тотальную безнадёгу от "быть поэтом" он бросился с седьмого этажа... в живых не остался. Анатолий Сыс, также умерший молодым, писал: “Ніхто ня мае права біць паэта”. Он защищался от мира, не принимающего многое из того, что он пытался дать ему. Сыс умер от спиртного. Да можно долго рассуждать о человеческой памяти, о чувствах, о жизни в сердце, но если поэт перестаёт дышать он умирает, как и любой другой человек. А значит, он больше не может быть тем, кем был. Самоубийство – вот один из крестов, которые несёт поэт. Правда он сам и есть свой крест. Родиться поэтом, настоящим, нефальшивым – тяжкая божья кара, искупление греха наших отцов. Куда спокойнее быть бесталанным, сидящим у телевизора потребителем пустоты. Повесился Есенин, застрелился Маяковский, наш современник поэт Борис Рыжий также покончил с жизнью… Пушкин и Лермонтов убиты на дуэлях молодыми, многие расстреляны НКВД за то, что были поэтами. Вспоминаются слова из песни Яны Дягилевой, новосибирской поэтессы и музыканта, «От большого ума - лишь сума да тюрьма». В тюрьмы поэтов сажали и не жалели ни нар, ни баланды. И с сумой по белому свету ходил не один поэт. Помните реплику, обращённую к Виктору Цою в концовке фильма «Асса»: - Живёте где? – И ответ: он нигде не живёт, он поэт. На белом свете он живёт. Так по земле ходили поэты в древние времена. 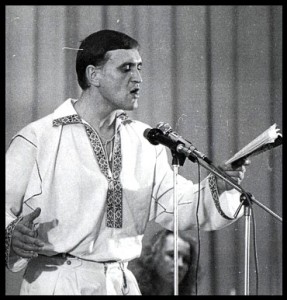 Сашбаш. Башлачёв - он не ангел, хоть и безумно талантлив. Он учится на факультете журналистики и сочиняет песни, он рвётся в романтические просторы Ленинграда восьмидесятых и сгорает там ясным фениксом... Без надежды на возрождение. Он играл квартирники – небольшие домашние концерты, в окружении всего нескольких десятков друзей и почитателей таланта. Квартирники брали качеством людей, не количеством. Бывали там тот же Виктор Цой, Леонид Парфёнов, - близкий друг по факультету журналистики, - Борис Гребенщиков, Юрий Шевчук...  Не смейте кричать им «Не надо!». Кушать под музыку на квартирнике было если не грехом, то уж точно правилом нехорошего тона. Это не нашпигованный спецэффектами амплагд и не гей-парад под голубыми шариками. Квартирник – мероприятие, коль хотите, личное, сокровенное. Если туда и попадает некоторое количество случайных людей, очень скоро оно или рассасывается, как гематома, или пытается сидеть тихо. Поэт на квартирник приносит себя, как на плаху. Ещё один повод поплакать и прокричать о своём. Поэт, как Христос, он или пытается докричаться или плачет. Его самый большой недостаток в неумении молчать. И ещё он рвёт струны. Поэт наделён трагической судьбой, злой рок следует за ним в любое время и в любом направлении, вплоть до могилы. Ванюша. Город мой даже очень немаленький, а нормальный, средний по размерам для Европы город. Только люди наши его называют маленьким. То ли от боязни быть Европой, то ли от привычки считать себя да и всё своё маленьким: дома, квартиры, улицы, детей. Даже Бог у них маленький в красном уголке. Самый большой собор, похожий на красно-белый торт, закрыт на ремонт, а денег, как всегда, нет. Прихожане ждут храма и надеются на чудо, а остальные пьют или набивают карманы ворованными гвоздями. Остальных у нас в большинстве.
Большой человек родился в этом маленьком городе, размером на тысяч 30 меньшим за Женеву. Было это в доисторическое, можно сказать, время, в эпоху брежневского застоя. Очереди, дефицит. Слово “покупать” постепенно заменяется понятием “доставать”. Если куда-то и просачивались западные грампластинки то уж точно не к нам. В лучшем случае «роллингами» или «битлами» наслаждались столичные меломаны и туниядцы, а в нашем частном секторе лишь дядя Коля играл на гармошке. Но ведь не главное чтобы вещь была на всех прилавках, главное, чтобы было желание эту вещь заиметь. Например, книг теперь в изобилии, но покупают почему-то водку. А в годы застоя книг не было, зато были люди, которые их выискивали, выписывали, заказывали. Они хотели читать. Такой была семья Медунецких. В доме уважалось печатное слово, музыка, живопись. Может быть потому, что глава семьи сам был поэтом и печатался в газетах и в поэтических сборниках. У поэта Василия Медунецкого было два сына – Андрей и Василий. Детей он воспитал в духе искусства и православной веры, старой веры, пришедшей с берегов Белого моря. Особо почитали в семье Высоцкого и Башлачёва, на стихах и песнях этих авторов Вася рос и учился самостоятельно отличать качественное от графоманского, настоящее от фальшивого. Теперь хочется сравнить его, как и любого творца, с трагической судьбой, с башлачёвским Ванюшей. Отдал людям песню и ушёл вдоль синей Березины. Мечта отца и сына съездить вместе на Соловки, очень значимое для староверов место, так и осталась мечтой.  Вы нас позабудете, и мы вас не запомним. Самое печальное в том, что большинству совершенно начхать и на поэзию, и на живопись да и вообще на искусство. Ведь, по правде говоря, поэзия это не всегда спасательный круг, часто она загоняет гвоздь ржавой тоски всё глубже, не давая времени на рассуждения. Творческий садомазохизм жив и доволен собой, причём, не только творческий созидательный, но и потребительский. Грусть просится на руки именно тогда, когда солнце опускается за девятиэтажку напротив а настроение ниже среднего. Вот тогда хочется выпить или читать, чтобы окончательно убить всякое настроение. Что побуждает поэта к творчеству? Потрясение. И чаще всего негативное потрясение. В начале ХХ века в Италии даже существовало поэтическое течение, которое называлось «Crepuscolarismo» (Искусством сумерек). Его представители были глубоко писсемистичны и не верили в наступление нового рассвета. Один из них, Серджо Кораццини , был болен туберкулёзом и писал стихи о своей болезни и о любви, которой он так и не познал. Он умер в 21 год: «Она в колоколах твоих ужасных,
она в фонтанах твоих монотонных,
плачущая жизнь и гуляющая смерть». «Хочу умереть только лишь потому, что устал,
Потому что великие ангелы с церковных витражей
Заставляют впадать меня в дрожь от любви и тоски». Стихи о смерти, о несчастной любви, о тоске – их в «настоящей» поэзии гораздо больше, чем сладких зарисовок о болдинской осени. (Да простят меня пушкинисты). Однако не стоит ставить клеймо на прекрасном и говорить, что настоящая поэзия – это депрессия, а всё остальное графоманство. То, что на самом деле чувствует поэт и есть поэзия, будь это восхищение родной природой, первая любовь или стихи из разряда «Завтра мы все издохнем». В стихах открывается душа, и по этой причине смущённые школьницы краснеют, вынося на чей-то суд свои творения.
Конечно, поэты и их стихи, как и всё, когда-нибудь забудутся. Читать вообще будет некруто и несовременно, и получается, что всё это никому не нужно. Но у этой монетки есть и другая сторона. Этруски полагали, что написанное слово – символ постоянства. Слово умирало сразу же после написания, красовалось уже выделанным, монументальным, как обелиск. А значит, когда-нибудь его найдут и прочтут. Этруски верили в бессмертие слова. Вот так поэты обрекают себя на вечную жизнь и в миру оставляют великое имя. АЛЕКСАНДР ЯЩЕНКО
|

